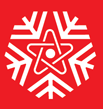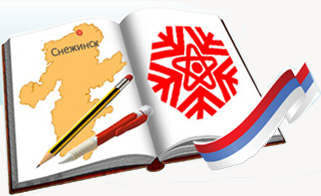Вослед юбилею Чехова… Антону Павловичу Чехову всего лишь 150 лет…
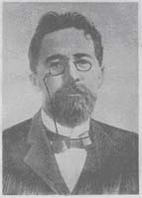 Вослед юбилею Чехова… Антону Павловичу Чехову всего лишь 150 лет…
Вослед юбилею Чехова… Антону Павловичу Чехову всего лишь 150 лет…
Анто́н Па́влович Че́хов (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (теперь — Ростовская область) — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германия) — русский писатель, драматург, по профессии врач.
Были времена, когда каждая работница могла узнать, кто есть кто из самого гламурного журнала своего времени – сегодня работницам не до высокой литературы, как, впрочем, и определяющим её жизнь господам из товарищей тоже… Но мы не можем пройти мимо этой знаменательной в истории российской литературы и культуры даты и публикуем статью из далёкого для большинства из нас 1938 года, помещённую в журнале «Работница», любезно представленном нам краеведом Е.А. Студенниковым. После прочтения видения личности и творчества А.П. Чехова, одобренного редакционным советом журнала для работниц, предлагаем другой взгляд, воздействия великого писателя на современность.
Антон Павлович Чехов — один из великих русских писателей, которые своими бессмертными произведениями обогатили мировую художественную литературу. Он был яростным врагом царского самодержавия, российской жандармерии, подавлявших достоинство нашей родины и угнетавших человеческую личность.Сила чеховских новелл (маленьких рассказов), повестей и пьес направлена против той государственной системы, того общественно-политического устройства, которые породили и усиливали нищету, задавленность и унижение масс; эксплоатацию слабого сильным; неподвижность, косность, застой жизни; лицемерие, казнокрадство, взяточничество, подхалимство, пошлость, разврат...В 1900 году молодой Алексей Максимович Горький пишет Чехову: «Огромное вы делаете дело, вашими маленькими рассказами возбуждаете в людях отвращение к этой сонной полумертвой жизни».И в самом деле, какое сильное воздействие производит на читателя обличительная речь Ивана Ивановича из рассказа «Крыжовник»:«Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе — ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился!»Особое звучание получают в наше время произведения А. П. Чехова, посвященные жалкому положению трудовой интеллигенции в царской России. Доктор Астров из пьесы «Дядя Ваня» так характеризует безысходность жизни его среды:«Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты (дядя Ваня). Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошлыми, как все».То далекое и страшное, о чем говорит доктор Астров, имеет большое познавательное значение (особенно для нашей молодой советской интеллигенции), оно оттеняет те высокие морально-политические качества, которые народ социалистической страны требует от своей (социалистической) интеллигенции.В словах чеховских персонажей звучит меткая, красочная характеристика не только того, о чем непосредственно говорится, но и самого говорящего. В детали Чехов умеет отразить целую жизнь, в одном человеке — показать черты, типичные для окружающей его среды, его класса, и в то же время сохранить в этом человеке его индивидуальное, лично ему свойственное.А. М. Горький с восхищением пишет о повести Чехова «В овраге»: «...страшная сила его таланта' в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете, но что может быть и хорошо, может быть и желательно... он не говорит нового, но то, что он говорит, выходит у него потрясающе, убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо верно. И потом, речь его всегда облечена в удивительно красивую и простую форму...»Чехов дорог и близок нам как художник-реалист, искренно ненавидевший пошлость, восставший своим творчеством против забитости и угнетения человеческой личности. Чехов нам близок своим новым понятием о труде как источнике и основе благ человечества. Правда, Чехов понимал труд по-своему, в рамках капиталистической системы, но об'ективно это новое понятие о труде разоблачало паразитический образ жизни господствующих классов.Правда, у Чехова не было четкой политической линии. Он не постиг принципа отрицания частной собственности. В его время многим людям было не под силу добраться до той политической вершины, где видна была историческая роль пролетариата как авангарда революции, которая разрушит капиталистическую систему. Но сила таланта А. П. Чехова заставляла его показывать жизнь такою, как она есть, и тем самым творчество Чехова выросло в грозное обвинение всей капиталистической системы.В какой среде рос и развивался Антон Павлович Чехов? Отец его, Павел Егорович Чехов, был жителем города Таганрога, занимался небольшой бакалейной торговлей. Он был далеко не заурядным человеком. Его страсть к музыке, пению часто заставляла забывать о торговле. О своих родителях А. П. Чехов говорит, что «талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».Из шестерых детей Павла Егоровича Антон Павлович был третьим по счету. Родился и вырос он в Таганроге. В 1879 году окончил гимназию и осенью того же года поступил в Московский университет на медицинский факультет. Пройдя до этого суровую школу нужды, Чехов ради заработка начинает сотрудничать в юмористических журналах, пишет под разными кличками (псевдонимами), но укрепляется кличка Антоша Чехонте. Под этим псевдонимом и выходит первый сборник его рассказов (в 1884 году).В марте 1899 года Антон Павлович Чехов (будучи уже зрелым, признанным писателем) знакомится с молодым Максимом Горьким. Встреча происходит в Ялте (Крым). Переписка их началась гораздо' раньше. Чехов сразу оценил громадный талант Горького. Помогал ему советами, критиковал, хвалил. С этого и началась их творческая дружба, большая, искренняя дружба двух великих художников.В 1902 году по царскому «соизволению» Академия наук признала недействительными вь|боры в почетные академики А. М. Горького. В знак протеста Антон Павлович Чехов решил отказаться от звания почетного академика и открыто об'явил об этом.В апреле 1890 года Чехов совершает трудную поездку на остров Сахалин. Подвергаясь лишениям в дороге, застигнутый половодьем и распутицей, он только 11 июля добрался до острова (Сибирской железной дороги тогда еще не было). Чем привлек Сахалин писателя? На этот вопрос мы находим ответ у самого Антона Павловича Чехова. До своей поездки в письме к А. С. Суворину (книгоиздателю) он пишет:«Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски, мы гоняли людей по холоду, в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы».В октябре 1890 года А. П. Чехов покинул остров. Насколько подробно писатель исследовал каторгу, свидетельствует его замечательная книга «Остров Сахалин».Свои впечатления от путешествия на остров Сахалин А. П. Чехов воплотил и в рассказах: «Гусев» (1890 год), «В ссылке» (1892 год) и «Убийство» (1895 год).15 июля 1938 года исполнится 34 года со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Память о нем дорога народам Советского Союза. Значение литературного наследства, ценность его мастерства дают нам познания о мрачном прошлом нашей родины и усиливают нашу радость за ее настоящее и будущее.
Г. ФРОЛОВА
Всего две странички
об интеллигентности, как составляющей части той России, в которую верил А.П. Чехов
Первое, о чём необходимо сказать: России Новой нельзя повторять ошибок России дореволюционной, т.е. XIX века, века великой русской литературы, завершившейся в своём главном развитии на творчестве А. П. Чехова, второе, вернее, были поставлены галактические задачи для того, чтобы человек из хомоса, двуногого, превращался в человека в высоком понимании гениальных писателей России.
Недавно от одного нового и талантливого писателя, которого, послушав, сразу невзлюбил, услышал фразу, где он примерно сказал следующее: … литература не может никого ничему научить и ни на что воздействовать, а я пишу, зная это, но пишу, потому что мне хочется, я так вижу…
Дальше уже я добавил то, о чём он умолчал: …так я зарабатываю бабки, и пишу только то и так, за что мне платят и платят хорошо… В этом и есть главный изъян такого писателя. Ибо сразу возникает главный вопрос, а зачем тогда вообще ты пишешь и надо ли тебе тратить и своё и наше (читателей) время и внимание? Произведения такого вряд ли станут классикой, и даже в истории литературы будут упоминаться скорее негативно. На мой взгляд, если у пишущего нет внутренней установки и веры на хотя бы микроскопическое улучшение, хоть в чём-то жизни, ему не надо быть писателем: деятелем – да, журналистом – можно, редактором издательства – конечно, но забивать головы итак ополоумевшим от избытка неперевариваемой и ненужной информации людям, называть себя писателем – нонсенс.
Здесь надо приостановиться на моём ненаучном понимании классичности литературы и том, чем классические вещи отличаются от хороших изделий, как бы лежащих, иногда до поры до времени, по разным причинам, на запасной полке истории литературы, но вдруг с неё срывающихся и вновь входящих в круг классический… Итак, классика – это то, что живо и работает в своей заявленности, но нерешённости проблем на любом уровне бытия, потому, если задача решена, произведение остаётся лишь объектом исторического и эстетического изучения. В то же время, есть произведения, которые под воздействием социальных извивов или гримас общественного сознания вновь становятся классикой. Например, стихотворение одного из любимых поколением юного Чехова поэта Н.А. Некрасова «Забытая деревня».
В пору его создания любой гимназист понимал, о чём речь, как бы сейчас сказали – «…о социальной ответственности хозяев жизни…», но, когда его читали в школе мои сверстники, оно было лишь иллюстрацией к истории, о прошлом. Сегодня же, когда оно вновь стало классически отражать бытие, его нет в школьной программе – это к вопросу о действенности. Кстати, нет в школьной программе и «Человека в футляре» Чехова, видимо, чтобы не напоминал о той серьёзной социальной роли и значимости, которую имел преподаватель гимназии. Да, в чеховском рассказе она отрицательна, но общество-то с ней считалось.
А многие рассказы Чехова молодым в период 60-х – 80-х годов не очень были понятны: ну и что, что персонаж жрал кислый незрелый крыжовник и радовался, что ради него прожил тяжёлую взяткоёмкую жизнь чиновника, и чего там бывшие однокашники – толстый с тонким так странно общаются «в наше светлое время всеобщего равенства». Но вот пришли иные времена, с их нерешёнными вопросами землепользования, с проблемой, кто же хозяин на ней, на земле, чего от этого хозяина ждать, с департаментами и министерствами на уровне городов Глуповых, – и стали вновь классическими отношения толстых и тонких с подвопросом, почему одним везёт, а к другим Фортуна ну, всё никак лицом не поворачивается.
С А.П.Чеховым всегда в России будет связан ещё один плохо объяснённый классический вопрос: «Так есть ли она, российская интеллигенция?!» Эталоном коей и был сам Антон Павлович. У меня в таких случаях есть свой ответ: «Да, были два последних истинных, старого разлива интеллигента, два академика: Андрей Сахаров и Дмитрий Лихачёв, но, к сожалению, их уже нет с нами. Но явление интеллигентности как чисто российский феномен пока остаётся на многих наших современниках в качестве различной степени напыления на наше сознание и общественное существование. Эти люди представляют в новой России многие сферы духовно-интеллектуальной деятельности, и не всегда уровень напыления зависит от официальных картонок об образовании, а тем более не совпадает с должностью и почти совсем не присутствует в представителях новой власти, которая принципиально демонстрирует своё полное несовпадение не только с какой-либо интеллигентностью, но и вообще с грамотностью: работая с людьми, они почему-то очень кичатся своим псевдотехнократизмом и пренебрежением к гуманитарной области познания…
И здесь надо говорить ещё об одной противоречивой стороне нашего общественного сознания: оказалось, что была и интеллигентность нового формата, выраставшая из старой, приспособившаяся к условиям Советской власти. Поэтому можно не кривя душой честно признать вслед за Эдуардом Лимоновым: да – «У нас была великая эпоха!». И интеллигенция формировалась своеобразная, которой пришлось противостоять люмпенству не только силой разума…
Очень хорошо показал разницу между интеллигенцией чеховского склада и той, к которой принадлежал сам, другой земский врач, писатель и драматург, бывший белогвардеец, как и большинство из них понимавший, что против сильного течения не устоишь, какое бы оно мутное не было, Михаил Булгаков.
Его профессор Преображенский при всей силе своего разума, логике и сарказме оказался бессилен против собственного люмпеноидного создания, пытался его вразумлять, а тот отмахивался от назойливых поучений «папашки» и быстро превращался в успешного деятеля ЖКХ. А вот товарищ Борменталь, хоть и ученик профессора, но в силу своего общения с другим людом, иного времени, знал, как надо обращаться с Шариковым и ему подобными. И сам деятель по очистке прекрасно понимает тяжёлые, как кирпич, доводы доктора и, потирая шею, вспоминает эпизод неинтеллигентного телесного воздействия, знает, что получит адекватную реакцию на неуправляемое хамство.
Поэтому и сегодня всё творчество А.П. Чехова – это большая пескоструйная машина, кувыркаясь в которой каждый, читающий его произведения, увеличивает размер площади клеток своего очищенного сознания. А может, и больше станет в ауре социально-общественных отношений случайного напыления интеллигентности.
Можно лишь сказать, что у меня сложилось устойчивое впечатление, что ныне аспект идеологического противостояния – не главное. И, относясь с уважением к людям, у которых есть взгляды, могу лишь констатировать, что основное противостояние нашего времени – это затяжной и глубокий конфликт между теми, кто, хотя бы нечаянно, почитал классику: и русскую – до, и советскую – после, и теми, у которых в их нелёгкой, изворотливо-пошлой, по А.П. Чехову, жизни, окутанной зелёным туманом всемирной валюты, проглядывают контуры лишь трёх книжечек: «Букваря» – с его помощью их научили подписывать судьбоносные распоряжения и приказы; «Трудовой книжки» – свидетеля их карьерных побед, и, наконец, «Сберегательной», чаще неожиданно, вдруг, параллельно с получением высокой должности превращающейся по-щучьему веленью в чековую.
В этом цивилизационном противостоянии, слава Богу, Чехов Антон Павлович на нашей стороне…
С. Сиротин
- 27 просмотров
- Версия для печати
- PDF версия